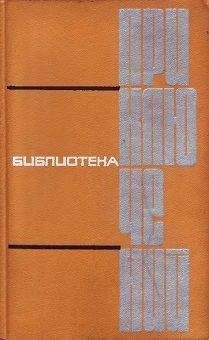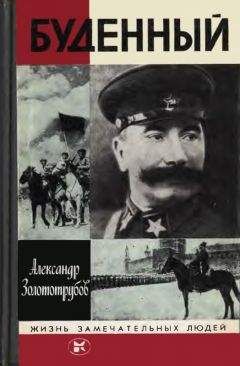Александр Листовский - Конармия [Часть первая]
Рядом с ним у тачанки стояли две лошади — гнедой мерин Кузьмича и его, Климова, вислозадая белая кобыленка, отличавшаяся на редкость строптивым характером. Они изредка профыркивали и, лениво шевеля губами, перебирали свежее душистое сено.
Солнце заливало двор потоками яркого света. В жарком воздухе сонно летали слепни, жужжали зеленые мухи; наверху, под стрехой, ворковали зобастые голуби.
Лошади зашумели. Рыжий мерин нечаянно толкнул вислозадую кобыленку. Та, прижав уши, обидчиво фыркнула и ударила его вдоль спины длинными желтыми зубами.
Климов поднял голову, чтобы погрозиться на лошадь, машинально согнал муху со щеки спавшего тут же Кузьмича и задержался взглядом на статной молодице, которая, стоя посреди двора и выставляя крепкие смуглые ноги из-под подоткнутой юбки, вытаскивала сильными руками мокрое ведро из колодца.
«Ишь, толстопятая, какие мясы наела!» — подумал старый трубач, провожая глазами молодицу, которая уносила ведро, покачивая на ходу полными бедрами. Он вздохнул, вспомнив былое, покачал головой и, подкрутив по привычке поникший седеющий ус, вновь, но уже громко запел:
Было дело под Полтавой,
Дело славное, друзья.
Мы дрались тогда со шведом
Под знаменами Петра…
Калитка скрипнула. Послышались быстрые шаги. Климов оглянулся. К нему шел Митька Лопатин.
— Чтой-то вы, дядя, пели шибко хорошее? — спросил он, подходя и присаживаясь напротив старика.
— Марш играл, — охотно ответил трубач. — Я, сынок, лет тридцать в гвардии прослужил. Знаю наизусть все полковые марши.
— А разве каждому полку свой марш?
— Обязательно. Они, марши, вперемеж с голосами игрались.
— Как это?
— Один куплет музыка играет, а другой куплет солдатики поют. Это, конечно, только в пехоте. А в кавалерии одна музыка. Хорошие марши были в пехоте. Вот, к примеру, Преображенского полка.
Знают турки нас и шведы,
И про нас известен свет… — пропел Климов тонким старческим голосом. — И так и дальше. А потом оркестр подхватывает. У нас в кавалерии полковой оркестр хором трубачей назывался… А в пехоте оркестр. Да. А вот еще марш гренадерского полка. Суворовского. Очень хорошие слова. Послушай-ко:
Всегда в боях страшился враг,
В тяжелую годину в первых битвах был,
Славься, полк непобедимый, полк могучих сил!
Славься, древний, боевой, славься, полк наш знаменитый,
Славься, полк наш родной…
А теперича музыка. Тара-рим-тарам-там-там-там, — заиграл Климов, подражая оркестру и ударяя кулаками по надутым щекам.
— А я к вам, дядя, по делу, — прервал его Митька Лопатин. — Искупаться хочу, а…
— Что такое?
— Чирий на спине выскочил… Спит? — Митька кивнул на лежавшего без движения Кузьмича.
— Спит, — подтвердил Климов. — Разбудим. Пора. И то с вечера спит. — Климов нагнулся и тронул Кузьмича за плечо: — Федор Кузьмич, вставайте! Вставайте, голубчик. Эва, сколько спали!
Лекпом заворочался, поправляясь на сене.
— Все это для нас чепуха… Пустяки, одним словом… Все это не играет никакой роли для нас, — пробормотал лекпом, просыпаясь.
Он присел и увидел Митьку Лопатина.
— А, товарищ Лопатин! — пробасил он приветливо. — Зачем припожаловал?
— Мне бы, товарищ доктор, пособие оказать. Кузьмич порылся в сумке, надел очки и, взглянув поверх них, спросил:
— Фебрис, значит?
— Чего? — не понял Митька.
— Фебрис — это обозначает болезнь. Слово такое. Латынь, — с приличной случаю важностью заметил лекпом.
— Чирий у меня.
— Фурункулюс? А-а… Ну, ну, давай покажи. Митька быстро снял гимнастерку.
— Так-с, — сказал Кузьмич. — Ишь, как его разнесло… Ну что ж, можно. Орать не будешь?
— Постараюсь, — сказал Митька, чувствуя, как мурашки побежали у него по спине.
— Ну ладно. Ложись давай на живот и бери в зубы гимнастёрку.
— Зачем? — удивился Митька.
— Для профилактики. А то закричишь — народ сбежится, нехорошо все-таки.
Кузьмич склонился над Митькой, осторожно обмял фурункул и вдруг со всей силой сдавил его пальцами.
— Ох! — сказал Митька, выпустив из зубов гимнастерку и повертывая к лекпому сразу вспотевшее лицо. — Вы бы поосторожней, товарищ доктор, а то в главах затуманилось.
— Готово, готово, — успокоил Кузьмич. — Гляди, с корнем выскочил.
— Все? — спросил Митька. — Можно одеваться?
— Постой, йодом прижгу… Ну вот, одевайся.
— Премного благодарен, товарищ доктор, — говорил Митька, одеваясь и затягивая ремень. — А то было всю спину стянуло.
— Скажи спасибо, что ко мне, а не в околоток зашел. Они бы тебя компрессами допекли, а то, глядишь, резать стали. Всю бы спину исполосовали. Знаю я их, живорезов. Им только нож в руки.
— Он купаться хотел, — сказал Климов.
— Ну и на здоровье. Вода теплая, а чирий-то с корнем выскочил. Ничего ему не станет.
Митька еще раз поблагодарил лекпома и пошел со двора.
— Смотрите, Василий Прокопыч, каков герой, а? — сказал Кузьмич, глядя ему вслед. — Даже не крикнул. Что значит сильный человек…
— Такой симулировать не будет, — сказал Климов.
— Факт… А, между прочим, симулянта я за версту узнаю. Еще в ту войну глаз набил. Он жалуется на живот, а как входит в околоток, так от самых дверей начинает на обе ноги хромать…
Пройдя огородами, Митька вышел к высокому берегу большого пруда. Отсюда открывалась уходящая вдаль холмистая панорама с разбросанными по склонам белыми хатками, тополями и синевшей на горизонте неровной полосой леса. Внизу, отражая солнце и нависшие ивы, блестела вода. Весь далекий отсюда противоположный берег был покрыт загорелыми телами бойцов. Теплый ветер доносил веселые крики и хохот.
Митька спустился по косогору, быстро разделся за ивами и, выйдя к берегу, остановился, подставив сильное, словно вылитое из бронзы, мускулистое тело под ласкающие косые лучи горячего солнца. Потом, взмахнув руками, разбежался, вниз головой кинулся в воду и поплыл на середину пруда.
— Эй, эй! Куда плывешь? Здесь девушки купаются! — насмешливо крикнула Дуська. — Ну, ну, плыви, плыви, — миролюбиво сказала она, увидев, что Митька стал поспешно загребать в обратную сторону.
Он оглянулся и только теперь увидел черневшие за солнцем три головы. Впереди всех, шлепая ногами, как колесный пароход плицами, плыла Дуська. Ее со смехом догоняли Маринка и Сашенька.
Митьку охватил мальчишеский задор. Он усмехнулся собственной мысли и, набрав воздуху, глубоко нырнул.
— Куда это Митя девался? — спросила Маринка Сашеньку, оглядываясь на нее через плечо.
— Нырнул. А что?
— Почему же так долго? — встревожилась Маринка. — Может, судорога? Он кричать не будет. Он ведь такой… Что ж делать, девушки, а?
Дуська повернулась к ней и открыла было рот, собираясь что-то сказать, как вдруг ее круглое лицо исказилось.
— Ой, мамыньки! — в ужасе закричала она. — Ой, кто-то меня за ногу схватил!.. Ой, девушки, держите метя? Ой, не могу, умираю! Ой, как он меня напугал… Тю, черт, дурак! — напустилась она на Митьку, который, отплевывая воду, вынырнул подле нее. — Погоди, вот Сачкову скажу, он те всыплет. А что, если б я утопилась?
— А я на что? — сказал Митька, смеясь.
— Ну, Митя, зачем ты ее? — укоризненно сказала Маринка.
— Да я ж пошутил! Я ее только тихонько за пятку «хватил… А ну, девушки, давайте, кто вперед к берегу, — предложил он, подплывая.
— Тогда нужно построиться, — сказала Сашенька. — Маринка, Дуся, давайте… А ну — раз, два… Пошли!
Они стайкой ринулись к берегу.
Митька плыл перевалкой, до половины выбрасывая из воды смуглое тело. В несколько взмахов он обогнал плывущую впереди Сашеньку. Вскоре он почувствовал дно под ногами.
— Ну ладно, Митя, ты выиграл! — закричала Маринка. — Давай уплывай отсюда. Нам одеваться надо. А потом приходи к нам. Мы здесь будем…
Девушки, осторожно ощупывая дно ногами, выходили на берег.
Отжимая мелкие, как роса, капельки, Сашенька провела руками по бедрам.
— Какая ты, Саша, складная, — сказала Маринка, с любовью глядя на подругу. — Ну прямо, как куколка. Вот, кажется, так бы взяла тебя, поставила на ладошку и понесла.
— Ну, положим, недалеко бы ты меня унесла, — усмехнулась Сашенька, ласково взглянув па Маринку. — Ты думаешь, во мне сколько? Во мне ведь четыре пуда.
Весело смеясь, они одевались.
— Беспокойное все-таки это дело — любовь, — говорила Маринка. — Вот Митя нырнул, а у меня уже сердце заныло, жалко стало… «А вдруг, — думаю, — больше никогда-никогда не увижу…» Да, слушай, Саша, когда мы были в Житомире, ты там видела большую скалу над рекой?
— Нет. А что?
— Мне одна старушка рассказывала. Давно это было, лет пятьсот. Возвратился из похода на турок какой-то пан Чапский. Заходит в дом тихонько, а его жена с любовником. Понимаешь, какое дело? Ну, тут он повернулся, сел на коня и айда. Выскакал на эту скалу, разогнался, раз — и в реку! Так вместе с конем и убился.
![Александр Листовский - Конармия[Часть первая]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)